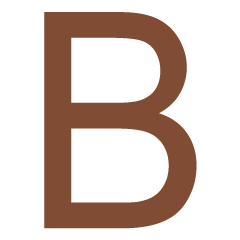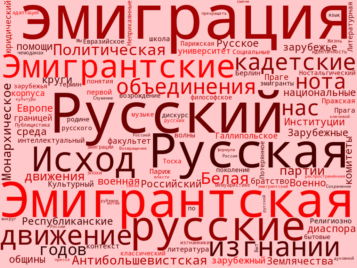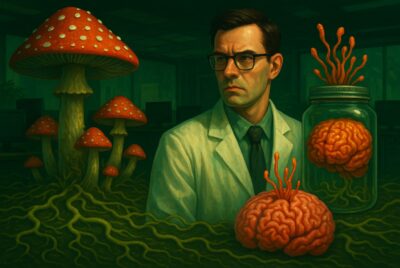Модели постироничного успеха или монетизация примитивизма
В современном мире массовой культуры происходит парадоксальное явление: откровенно китчевые, примитивные образы неожиданно превращаются в коммерческие хиты. Примеры этому – Надежда Кадышева, российская псевдофолк-певица, которая в 2023–2025 годах внезапно стала любимицей молодежи, и Лабубу (Labubu) – «милый монстр», захвативший TikTok и мировой рынок игрушек в 2024–2025. Оба феномена демонстрируют, как в эпоху постиронии и алгоритмического хаоса даже псевдокультурный продукт при правильной подаче способен принести миллионы. Ниже мы разберем экономику хайпа этих проектов, социокультурные механизмы их взлета, общие факторы успеха, отличия контекстов и сделаем вывод о том, можно ли сегодня продать буквально что угодно под соусом кринжа и постироничного веселья.
Экономика хайпа: сколько они зарабатывают и на чем
 Надежда Кадышева: от скромных гонораров к вершине российского шоу-бизнеса
Надежда Кадышева: от скромных гонораров к вершине российского шоу-бизнеса
Еще недавно ансамбль «Золотое кольцо» с солисткой Надеждой Кадышевой считался ретро-группой для бумеров без какого-либо намека на музыкальный слух и художественный вкус. Коммерческий потенциал был невелик: в 1990-е она давала множество серийных концертов по небольшим и непристижным площадкам (промоутер Евгений Морозов вспоминает, что бывало до 300 концертов в год), но крупных заработков это не приносило. Ситуация кардинально изменилась в 2024 году – старый хит «Плывет веночек» внезапно стал вирусным в TikTok. Это мгновенно повысило спрос на музыку и концерты Кадышевой, что выразилось во взрывном росте доходов.
По данным РБК:
- Рост стриминга: с конца 2023 по конец 2024 число прослушиваний песен «Золотого кольца» выросло в 7 раз. На Яндекс.Музыке у группы ~2,5 млн слушателей в месяц – лишь в 2–3 раза меньше, чем у самых хайповых молодых российских звезд (Инстасамки, Макана). Иными словами, по аудитории в стримингах Кадышева теперь догоняет топовых поп-артистов своего рынка.
- Гонорары за выступления: в 2024-м году доходы ансамбля утроились. Средний гонорар за концерт поднялся с ~0,5 млн руб. до ~3 млн руб. А за выступление на элитных летних корпоративах 2025 года стали просить уже 15–20 млн руб. По словам промоутеров, Кадышева фактически стала самой высокооплачиваемой певицей в России на данный момент (лето 2025г).
- Продажи билетов: концерты идут при полных аншлагах. Весной 2024 «Золотое кольцо» собрало зал на 4300 мест в Москве, летом и осенью планируются выступления на аренах (например, Ледовый дворец в Петербурге) – билеты раскупаются настолько быстро, что добавляют дополнительные даты. Всего только в 2025 запланировано не менее 12 больших концертов по стране, со средней вместимостью 10–20 тысяч зрителей каждый. Это переход к формату стадионных туров, чего ранее за группой не наблюдалось.
- Прочие монетизационные каналы: основной доход дают живые выступления, поскольку вирусность подняла концертный спрос. Продажи мерча у Кадышевой носят фанатский характер – молодежь стала надевать на концерты кокошники и сарафаны как у нее, хотя это скорее самодельный фан-косплей, а не организованная ею линия товаров. Цифровые прослушивания приносят роялти, но в России они относительно скромны. Тем не менее, рост стриминга повысил капитализацию каталога песен Кадышевой и, вероятно, интерес рекламодателей: ее музыка звучала на крупных мероприятиях (например, на городском празднике и телешоу «Алые паруса» для выпускников), косвенно, но значительно, увеличивая медийную ценность бренда «Кадышева».
Кто стоит за продвижением? Интересно, что сама Кадышева и ее продюсеры заявляют об отсутствии целенаправленного пиара под молодежь. Концертный директор Владислав Дорофеев говорит: «Мы не пытались заигрывать с молодой аудиторией специально – оставались честными, и поколение это почувствовало». Вирус дался как будто сам собой. Однако промоутеры отмечают, что без организованной работы не обошлось: «Сегодня просто кто-то занялся продвижением коллектива… Раньше она давала 300 концертов в год, а сейчас запрос на 400–500». То есть успех пока не упущен – команда певицы (включая ее мужа-композитора Александра Костюка и партнера Евгения Морозова из компании «Ру-концерт») быстро сориентировалась и вложилась в организацию больших концертов, присутствие на фестивалях (Кадышева даже стала хедлайнером молодежного VK Fest и других open-air), а СМИ подхватили сенсацию. Можно сказать, что алгоритмы и народное творчество сделали свое дело бесплатно, а продюсеры лишь капитализировали готовый тренд минимальными вложениями. В итоге на выжженом поле российской эстрады (откуда многие звезды уехали или дискредитировали себя в глазах властей и цензоров) Кадышева заняла вакантное место и превратилась в высокодоходный культурный феномен. Это первая, логичная и общественно приемлемая версия. Есть еще конспирологическая, в духе романов Пелевина — Кадышеву “по фану” раскрутили кремлёвские политтехнологи, которые могут продать деградировавшему населению всё что угодно, любого цвета, запаха и вкуса.
Лабубу: мгновенный глобальный хит и миллиардные продажи игрушек
Labubu – небольшой зубастый эльф-монстр, придуманный гонконгским художником Kasing Lung в 2015 году. Первые годы этот персонаж оставался нишевым: выпускались комиксы и фигурки для коллекционеров. Перелом наступил после партнерства с китайской компанией Pop Mart (2019) – именно она начала массово продвигать Лабубу как часть серии дизайнерских игрушек The Monsters. Однако по-настоящему хайп начался в 2023–2024, когда крошечный монстр стал вирусным в соцсетях.

Экономические показатели этого бума впечатляют:
- Продажи и выручка: 2024 год стал триумфальным – мировая выручка Pop Mart более чем удвоилась и достигла 13,04 млрд юаней (≈$1,81 млрд). Это во многом заслуга «эльфийского монстра» Лабубу. Особо вырос сегмент плюшевых игрушек: продажи плюшевых Labubu взлетели на 1200% за год и дали почти 22% всей выручки компании. Только серия Blind Box «The Monsters» (фигурки в запечатанных коробочках с Лабубу и его друзьями) принесла $419 млн в 2024 году – на 726,6% больше, чем годом ранее. Таким образом, крошечный монстрик превратился в локомотив многомиллиардного бизнеса.
- Прибыльность и рынок: У Pop Mart очень высокая маржинальность (~67% валовой прибыли по данным 2024), а бум Labubu поднял акции компании вдвое за первые полгода 2025. Особо стремительно растут международные рынки: вне материкового Китая продажи Pop Mart за 2024 год почти упятерились, особенно в Юго-Восточной Азии и Северной Америке. 97% выручки Pop Mart в 2024 пришлись на продажи лицензированных серий вроде The Monsters – то есть на сами эти коллекционные игрушки. Компания планирует расширить сеть – +50 розничных магазинов в США в 2025 для удовлетворения спроса.
- Монетизационные каналы: Главный канал – прямая продажа игрушек. Модель распространения – блайнд-боксы (покупатель не знает, какой именно вариант фигурки попадется). Этот гачи-механизм провоцирует фанатов скупать коробки оптом в погоне за редкими «секретными» экземплярами. Поп Mart выпускает Labubu в разных форматах и ценовых категориях: от недорогих брелоков за $20–30 до лимитированных изделий за $300 и гигантов почти за $1000. Такой ценовой разброс привлек и массового покупателя, и обеспеченных коллекционеров. Кроме того, компания лицензирует образ: Лабубу стал фэшн-аксессуаром (коллаборации с брендами, фотосессии в Vogue), есть сопутствующий мерч. Появились даже спекулятивные производные – например, в разгар хайпа кто-то запустил мем-криптовалюту $LABUBU по мотивам игрушки (курьезно, что ажиотаж по физическим куклам вдохновил и цифровой «мем-коин»). Вокруг Labubu бурлит вторичный рынок: из-за дефицита фанаты переплачивают втридорога, перекупщики продают фигурки по $100+ (при ритейле ~$25), а в очередях за новыми выпусками люди стоят по 8 часов. Все это лишь подогревает основную торговлю, создавая ощущение дефицита и ценности.
- Инвестиции в продвижение: Вирусный успех Labubu вырос органично из пользовательских постов, но Pop Mart тоже активно подключился. Компания вовремя вывела на рынок плюшевый брелок Labubu (2023) – формат, который легко брать с собой и показывать в кадре. Затем инфлюенсеры сделали свое дело: первым “евангелистом” стала суперзвезда Lisa (Blackpink), назвавшая Labubu «своей тайной одержимостью» в видео Vanity Fair. Она и другие звезды (Рианна, Мадонна, Дуа Липа, Ким Кардашьян, Симона Байлз, Дэвид Бекхэм и др.) начали появляться с Лабубу на фото. Многие из них, видимо, подхватили тренд искренне, без платной рекламы – игрушка приглянулась как забавный аксессуар. Однако Pop Mart явно не осталась в стороне: глава отдела лицензирования Emily Brough отмечает, что «перевести Лабубу в разряд стильного символа» было частью стратегии. Компания открывала новые магазины в модных локациях, запустила множество серий (под сезоны, праздники), развивала комьюнити коллекционеров. Иными словами, маркетинг Labubu – это вирусные ролики вместо ТВ-рекламы и TikTok-витрины вместо традиционного ритейла. Существенных затрат на прямую рекламу, судя по всему, не потребовалось: армия фанатов сама генерирует контент, а дефицитный товар продает себя.
Социокультурный механизм взлёта: почему аудитория влюбилась в китч и кринж
Как из “плохого” сделать “так плохо, что даже хорошо” – главный вопрос этих кейсов. Рассмотрим причины вовлечения публики и роль постиронии.
Вирусность и постирония: случай Кадышевой
 Успех 63-летней Надежды Кадышевой у 20-летних зумеров на первый взгляд необъясним. Ее музыка – простенький поп-фольклор, с баяном и балалайкой, про деревенскую жизнь. Раньше это слушали бабушки, а молодежь считала «неактуальным». Но в 2024 году произошло магическое совпадение факторов:
Успех 63-летней Надежды Кадышевой у 20-летних зумеров на первый взгляд необъясним. Ее музыка – простенький поп-фольклор, с баяном и балалайкой, про деревенскую жизнь. Раньше это слушали бабушки, а молодежь считала «неактуальным». Но в 2024 году произошло магическое совпадение факторов:
- Алгоритмы и флешмобы: TikTok выбросил в рекомендации старый трек «Плывет веночек», и пользователи начали массово снимать под него танцевальные видео. Алгоритм продвигал тренд – под хештегом #золотоекольцо набралось свыше 20 тыс. роликов. Этот вирусный флешмоб создал эффект ностальгии по 90-м, хоть сами зумеры той эпохи не застали – сработала “наследственная” память. TikTok стал машиной времени, вернувшей старый хит в массовое сознание.
- Мемы и ирония: Молодежь сперва включилась ради шутки. Музыкальный критик Олег Кармунин прямо называет взлет «Золотого кольца» игрой в постиронию: «Мне кажется, это какая-то шутка… постюмор, пост-пост, мета-мета. Молодежь иногда начинает прикалываться и любить какие-то дичайшие явления». Иными словами, зумеры полюбили Кадышеву “по приколу”, на волне мета-иронии. В соцсетях распространилось убеждение, что сходить на ее концерт – это «круче рейва», ультра-угарно и даже стильно в своей абсурдности. Появился своеобразный ироничный фан-клуб: на концертах молодые надевают кокошники, хором орут простенькие тексты и получают искренний кайф именно от того, насколько это не совпадает с современными гламурными трендами. Эффект “so bad it’s good” – когда старомодность и кич начинают цениться как экзотический сорт удовольствия. Уставшая и изможденная Надежда Никитична стала “всратой”.
- Новая искренность и общность: Постепенно ирония частично сменилась на реальный энтузиазм. Многие молодые фанаты отмечают, что на концертах Кадышева дарит подлинные эмоции и объединяет зал: «весь зал – один танцпол, все незнакомые будто стали знакомыми, лучший концерт в жизни!». Одни видят в этом усталость от пафоса и цинизма современного шоу-биза: на фоне глянцевых звезд инстаграма искренние, пусть наивные песни вызывают симпатию. Другие остаются в рамках ироничного фана – приходят потанцевать под трэш-саундтрек, не воспринимая всерьез. Так или иначе, эффект вирусности раскрутил сам себя: молодежь пошла «рофлить» над Кадышевой, а в итоге массово прониклась атмосферой. В условиях ограниченного культурного выбора в РФ (уехавшие артисты, цензура и т.д.) этот «деревенский рейв» стал символом объединения и веселья без политики и агрессии.
- Эскапизм и поиск утешения: при всей своей примитивности Кадышева мощно закрывает многие потребности израненого общества — запрос на простой развлекательный контент, ноль рисков по линии иноагенства и цензуры, простейший музыкальный язык, прилипчивые тексты и быстрый танцевальный “приход”. В каком-то смысле она стала и Сердючко-заменителем — но без ЛГБТК+ коннотаций и вражеской прописки. Примерно по этим же причинам Надежда Никитична оттянула на себя и часть аудитории Филиппа Киркорова, который неудачно сходил не в ту дверь и так же относится к дискриминируемой в современной России страте, как и Андрей Данилко.
- Роль платформ: TikTok сыграл решающую роль – без него не было бы самого тренда. Но далее эстафету приняли и другие алгоритмы: в Instagram/Reels и YouTube тоже появились миллионы просмотров нарезок с Кадышевой; в аудиосервисах треки поднялись в рекомендации. Даже телевидение и Telegram подключились: государственные медиа в России не упустили шанс поддержать внезапно модный “патриотичный” образ (традиционная музыка, русские костюмы, Z-позиция) – Кадышеву начали звать на телешоу, официальные каналы растиражировали феномен. В Telegram множились посты в духе «зумеры сходят с ума по бабушкиной певице», подогревая интерес как к курьезу. Таким образом, старые и новые медиа вместе создали вирусный шлейф, где постироничный мем превратился в событие национальной культуры.
Инфантилизм и мем-культура: феномен Лабубу
Labubu завоевал сердца глобальной аудитории через другую, но во многом схожую динамику – сочетание милоты, абсурда и хайпа. Вот как формировался его культ:
- “Ugly-cute” эстетика: Лабубу – существо одновременно страшное и милое. У него огромные кроличьи уши, пушистое тельце, но при этом хитрая улыбка с девятью острыми зубами. Этот контраст «уродливо-симпатичный» завораживает. «I think this is such an ugly, cute thing», – поясняет феномен культуролог Нина Мария. Визуально Лабубу достаточно необычен, чтобы выделяться («выглядит странно на сумке – поэтому и привлек внимание»), но все же достаточно миловиден, чтобы вызывать положительные эмоции. Это типичный пример постмодернистского китча: объект настолько нелеп, что становится объектом моды.
- Социальные сети и FOMO: Как и с Кадышевой, TikTok стал ускорителем. Видео с распаковкой Labubu-боксов, с коллекциями фигурок, с людьми, цепляющими брелок на рюкзак, разлетелись по сети, набрав миллионы просмотров. К лету 2025 в TikTok было уже более 2,1 млн постов с хештегом #labubu. Сработал эффект снежного кома: «If everybody has it, then everybody wants it» – если у всех есть, то всем и надо. Молодежь по всему миру боялась «упустить тренд» (синдром FOMO), выстраивались очереди в магазины, запись распаковки коробочки стала почти обязательным челленджем. Алгоритмы TikTok и Instagram продвигали этот контент, потому что он вызывал высокий отклик (эмоции умиления, удивления, азарт). Дети и подростки просили у родителей, инфлюенсеры демонстрировали “трофеи”, взрослые миллениалы тоже подключились. В результате Labubu стал не просто игрушкой, а вирусным мемом – символом веселья и модной игры, распространяющимся как информационный вирус.
- Ирония и инфантилизация: Значительная часть аудитории – вовсе не дети, а взрослые покупатели 18+ (причем преимущественно женщины), которые покупают Лабубу для себя. Почему 20–30-летние тратят деньги на детскую, казалось бы, вещицу? Во-первых, здесь тоже присутствует элемент постиронии: молодые взрослые, пресытившиеся гаджетами и сложным контентом, находят отдушину в сознательно инфантильном увлечении. Собирание смешных игрушек – своего рода бунт против скучной зрелости, способ заявить «мы, поколение миллениалов/зумеров, настолько пресытились культурным багажом, что наслаждаемся самым тупым и простым». Марк Фишер называл подобное явление капиталистическим реализмом и ретроманией – когда новое поколение перерабатывает образы детства (фурби, бини-бэйбиз 90-х) в постмодерн-конфетку, потому что не видит принципиально новых смыслов. Как призналась 38-летняя фанатка: «Я пережила в детстве моду на Furbies и Beanie Babies. Теперь я взрослая с деньгами и могу позволить себе баловаться тем же». Таким образом, ностальгия и регресс в детство стали частью привлекательности Лабубу. Во-вторых, потребление здесь сопровождается смехом и мемами – люди обмениваются в соцсетях шутками про «зубастика на сумке», создают фан-арты и даже косплеят Лабубу на камеру, подчеркивая несерьезность и фановость этого хобби. So cringe, so fun – чем нелепее, тем веселее.
- Коллективный культ и азарт: Вокруг Labubu возникла настоящая субкультура коллекционеров – тысячи онлайн-сообществ, где участники обмениваются фигурками, хвастаются «уловом» и обсуждают новые релизы. Например, только в Чикаго локальная Facebook-группа любителей Лабубу за несколько месяцев набрала свыше 1,7 тыс. участников, а подобных групп по миру сотни. Это стало похоже на квазирелигиозный культ: у фанатов горят глаза, они проводят ритуалы (ночуют в очередях, как паломники), трепетно распаковывают «таинственные коробочки» в надежде на редкого «идола», и могут даже плакать от разочарования, если выпала не та фигурка. Алгоритмы TikTok/YouTube, видя этот ажиотаж, еще больше продвигают контент – распаковки и трансляции эмоций, что подогревает новых людей присоединиться. Немаловажно и азартное вовлечение: формат blind box похож на лотерею, вызывая выброс дофамина при покупке (элемент gamification). Как отмечают исследователи, такая неопределенность результата делает фанатов зависимыми, заставляя снова и снова тянуть руку к кошельку. В итоге Лабубу – это не просто игрушка, а «вирус веселья», как её назвали в одном обзоре: мем, мода, медитация и маркетинг в одном флаконе.
Общие факторы успеха: что объединяет Кадышеву и Лабубу
Несмотря на различие контекстов, эти два кейса имеют ряд общих двигателей успеха:
- Отсутствие конкуренции в своей нише. Оба феномена воспользовались вакуумом. Кадышева ворвалась на опустевший Олимп российской эстрады: пока одни звезды уехали или молчат, а новые лица вызывают усталость и “тупо не заходят”, она предложила уникальный коктейль традиции и трэша, которому не с кем конкурировать внутри РФ. Лабубу же не имела прямых аналогов среди глобальных мемо-игрушек. Были предшественники (спиннеры, поп-иты, Squishmallow и пр.), но они либо не обладали такой яркостью, либо не стали модным атрибутом стиля. Labubu удалось стать единственным в своем роде: ни один другой зверек не сочетал функций и мема, и модного аксессуара одновременно на таком уровне. Пока конкуренты спохватывались, Pop Mart захватила умы публики.
- Постироничное потребление и меметизация. И Кадышева, и Лабубу стали популярны благодаря мемам и ироничному сарафанному радио. Их аудитория во многом потребляет продукт не всерьез, а как шутку – и именно поэтому вовлекается еще сильнее. Тут работает принцип «so bad it’s good»: плохо, но от этого даже хорошо. Кадышева – это «олдскул, от которого ржешь, но пляшешь»; Лабубу – «странная игрушка, над которой фукаешь, но цепляешь на сумку». Постмодерн научил молодежь смешивать ироническое дистанцирование с настоящим удовольствием. Мемы в соцсетях сделали обоих героев узнаваемыми и вирусными: их образы тиражировались в шутках, ремиксах, фан-артах, что бесплатно и автоматически расширяло аудиторию. Каждый новый пользователь, подключаясь «поржать», автоматически становился носителем меметического вируса.
- Создание фан-сообщества, близкого к культу. Успех закрепился, когда вокруг объектов сформировалась активная субкультура фанатов. В случае Кадышевой – это целое движение молодых людей, внезапно проникшихся «славянским вайбом»: они ходят толпами на концерты, наряжаются в фольклорные костюмы, скандируют слова песен как мантры. Возник своеобразный иронично-искренний фэндом, который ощущает себя особенной тусовкой (недаром комментаторы сравнивают атмосферу на концертах с лучшими рейв-вечеринками). В случае Labubu – фанаты объединились в коллективное хобби: обмен, коллекционирование, совместное ожидание релизов. Это уже больше похоже на квазирелигиозный культ: у сообщества есть свои ритуалы (распаковка “вслепую”, охота за «священными» редкими фигурками), своя мифология (персонажи The Monsters, истории от автора), и чувство причастности к глобальному тренду. Когда бренд превращается в субкультуру, он получает лояльную базу, готовую платить и продвигать идею дальше. Именно это случилось в обоих кейсах.
- Алгоритмическая поддержка. И Кадышева, и Лабубу взлетели на плечах алгоритмов TikTok/Instagram/YouTube. Социальные платформы нынче выступают продюсерами: они решают, что станет вирусным. В обоих случаях короткие видео с участием феноменов получили взрывной охват – просто потому, что были достаточно необычными, чтобы задержать внимание. Алгоритм TikTok любит контент, который люди досматривают и пересылают – танцующие зумеры под бабушкину песню или девушка, цепляющая забавного монстрика на Birkin, идеально подходят под этот критерий. Дальше включается механизм самоусиления: вирусность => рекомендации => еще большая вирусность. Кроме того, рекомендательные системы музыкальных сервисов и маркетплейсов также сыграли свою роль: увидев всплеск интереса, они стали чаще показывать соответствующий контент (музыку Кадышевой – новым слушателям, игрушки Labubu – потенциальным покупателям). Фактически алгоритмы создали новый спрос, которого без них могло и не возникнуть.
Сравнительный анализ отличий
Несмотря на общие черты, различия между кейсами тоже показательны. Они обусловлены разными контекстами – политическими, технологическими, демографическими:
- Контекст: постапокалиптическая Россия vs. инфоперенасыщенный Запад. Кадышева расцвела в специфической среде современной России, которую можно назвать «постапокалиптической» – после 2022 года страна переживает изоляцию, цензуру и культурный вакуум. Молодежь ограничена в выборе развлечений: западные артисты не приезжают, внутренний шоу-бизнес под контролем госпропаганды. На этом фоне возрождение архаичной певицы стало возможным как своего рода эскапизм и протест одновременно – безопасный (аполитичный) способ выпустить пар и почувствовать единство. Примитивизм образа дал желанное облегчение от тревожной реальности. В то же время Labubu – дитя глобального капитализма, особенно процветающего на перенасыщенных инфоплощадках Запада и Азии. Здесь внимание людей рассеяно тысячами трендов, каждый день – новый инфошум. Чтобы привлечь искушенного (или “выжженного”) зумера, продукт должен быть максимально кричащим, вирусным. Игрушка Лабубу идеально вписалась в эту среду: инфантилизм и кринж стали ее конкурентным преимуществом в океане информации. Если Кадышева выигрывает на фоне дефицита качественного контента, то Labubu – на фоне переизбытка контента, где побеждает самое необычное.
- Способы продвижения: телевидение + Telegram vs. TikTok + e-commerce. Промо Кадышевой сочетает старые и новые медиа: органично начавшись в TikTok, тренд был подхвачен традиционными каналами. Телевидение, радио, новостные сайты (РБК, Коммерсантъ и пр.) выпустили материалы о феномене, фактически узаконив его. Telegram-каналы и паблики ВКонтакте тоже многократно обсуждали, укрепляя вирусность. Наконец, ключевую роль сыграли офлайн-факторы – концерты и живая сарафанная реклама (люди сходили на шоу и звали друзей ради фана). В случае Labubu традиционные СМИ шли уже вдогонку за трендом, а главное действие разворачивалось онлайн. TikTok, Instagram, YouTube – вот главные витрины, где шло продвижение (через челленджи, обзоры, сторис звезд). Вместо ТВ-рекламы – сотни бесплатно созданных роликов от блогеров. Вместо газет – вирусные посты в Twitter/Reddit. Продажи Labubu тоже организованы по-новому: через вирусный e-commerce. Огромную роль сыграли маркетплейсы и интернет-магазины, доступные 24/7 по всему миру (Pop Mart умело задействовала Amazon, AliExpress, собственный сайт, автоматы с игрушками и поп-ап магазины). В итоге Лабубу разлеталась молниеносно, не требуя ни телешоу, ни радиоротаций – чисто сила социальных платформ + мгновенная доступность товара онлайн. Эта цифровая скорость – отличительная черта глобального рынка, в то время как успех Кадышевой более локален и офлайнен (привязан к концертам и региональным событиям).
- Целевые аудитории: деревенский кич vs. Generation Z&α global. У Кадышевой изначальный ядро фанатов – старшее поколение, провинциальные слушатели, ценящие ее псевдорусскую эстетику. В новом витке добавились зумеры и миллениалы, но в основном в России и странах СНГ, и зачастую городские, образованные (для которых вся эта “деревенщина” – экзотика). Получился интересный микс: на ее концертах теперь бабушки и внучки стоят рядом, обе категории получают удовольствие, но по разным причинам. Можно сказать, что Кадышева – феномен скорее локальный. Лабубу же – интернациональный и тренд. Ее аудитория – дети (10–15 лет), подростки и молодежь до ~30 по всему миру, которые активно сидят в соцсетях. Портрет фаната Лабубу: это или ребенок, которому «просто очень нравится милый монстрик», или молодой взрослый, который следует моде/ностальгирует/коллекционирует. География – от Азии до Америки, truly глобальный мем. Важно отметить, что у Labubu большая доля фанатов – именно поколение Z и альфа, выросшие в интернете. У них «выжженный вкус» в том плане, что они перепробовали массу развлечений онлайн, перенасытились медиа – и теперь их внимание привлекает такая вот причудливая смесь детского и эпатажного. Для этой аудитории Labubu оказалась идеальным раздражителем (в хорошем смысле), тогда как фокус-группа Кадышевой – российские молодые люди, у которых вкус может быть “сожжен” цензурой и изоляцией, но не переизбытком глобального контента.
- Идеологический оттенок: Кадышева волей случая вписалась в контекст возврата к «традиционным ценностям» в РФ. Ее образ – православная женщина в кокошнике, поющая про ручьи и веночки – оказался удобен и официозу как позитивная повестка. Это придало ее феномену даже квазиполитический оттенок: она стала символизировать «русскую культурную идентичность» (хотя молодежь идет скорее ради фана, но подтекст считывается). Лабубу напротив вне политики, это чисто коммерческо-развлекательное явление глобального поп-мира. Оно скорее отражает гедонистический инфантилизм современной культуры. Но никакой государственной идеологии или серьёзного смысла тут нет – Labubu объединяет людей вокруг потребления и эстетского каприза, а не идей. В этом смысле феномен Labubu более универсален и «невиннен», а феномен Кадышевой – вплетен в специфический историко-культурный нарратив пост-советской России.
Финал: Можно ли продать всё что угодно, если правильно упаковать примитив?
Практика показывает – в эпоху постиронии и алгоритмического хаоса это во многом так. Феномены Надежды Кадышевой и Лабубу наглядно демонстрируют, что при должной доле кринжа, вирусности и маркетинговой смазки любой культурный продукт – от старомодного деревенского шансона до зубастого плюшевого монстра – способен превратиться в прибыльный хит и мягко, безболезненно, войти в любую аудиторию.
Конечно, это не происходит совсем уж случайно: нужны определенные условия. В случае Кадышевой сыграли роль вакуум и ностальгия: на фоне опустевшего медиа-ландшафта молодёжь жадно ухватилась за «новое старое», превратив его в мем. В случае Лабубу – глобальный инфантилизм и жажда абсурда: перенасыщенное впечатлениями поколение Gen-Z радостно сделало культ из вещицы, которая открыто ни о чем. Оба кейса подтверждают тезис Ги Дебора о том, что мы живем в «обществе спектакля», где важнее не содержание, а зрелищность образа. Бодрийяр бы отметил, что и Кадышева, и Лабубу превратились в чистые симулякры: знаки без первоначального контекста, потребляемые ради самих знаков. Марк Фишер увидел бы здесь проявление капиталистического реализма – система умеет усваивать и продавать даже свои пародии и обломки прошлого, лишая нас подлинно нового. Умберто Эко назвал бы их успехи игровым постмодернизмом, где граница между шуткой и культом размыта.

Но оставим теорию – факты говорят сами за себя. Надежда Кадышева превратилась из забытой певицы в икону пост-постироничной России, собирающую стадионы и зарабатывающую десятки миллионов. Labubu из локальной игрушки — в мировую сенсацию, взорвавшую рынок на сотни процентов. И то, и другое случилось во многом потому, что аудитория устала от смысла и качества – ей подавай веселье, абсурд и единение здесь и сейчас. И попроще.
Таким образом, в эпоху мета-иронии и алгоритмов действительно можно продать всё, что угодно, если придать этому ореол мемности и позволить людям полюбить это хотя бы «по приколу». Встречайте – эпоха постпостиронии, где кринж – новый кумир, а культурный код генерируется коллективным безумием. И как показали герои нашего разбора, этот безумный парад может оказаться весьма доходным мероприятием.
Метки:
#исследования #бернштейн #Labubu #глобальный #Кадышева #миллиардные #монетизация #продажи #успех #хит